"Gazeta Wyborcza" – Большой формат
15 января 2011 г.
Ежи Бар
Стартуем!
"Я был с председателем Качиньским, когда он шёл к телу брата. Я держал его под руку. Последние несколько шагов он сделал сам".
С Ежи Баром, бывшим послом РП в Российской Федерации, беседует Тереса Тораньская
- Я скажу Вам прямо: невозможно объяснить, особенно в России, какой был смысл в том, чтобы один за другим ездили в одно и то же место.
Анджей Пржевозник говорил: только бы пережить эту Катынь.
- Он был в Катыни 7 апреля, в среду. Через три дня должен был прилететь туда снова. Он был очень усталым, я разговаривал с ним.
Я покажу Вам свой календарь.
Дату 10 апреля Вы обозначили красным фломастером.
- Я сделал это потом.
Утром я получил e-mail от Мариуша Казаны, шефа дипломатического протокола МИД. С одним словом – стартуем.
Я был в очень хорошем настроении. И, скажу нескромно – я был горд. Встречей Туска с Путиным в Катыни мы сделали очередной шаг в нужном направлении, и я, наконец, мог уйти.
Вы хотели?
- В Москве я пережил злокачественную опухоль, инсульт и серьёзную операцию. Для одного срока в диппредставительстве достаточно. Я решил уйти на пенсию. Но меня попросили остаться. После визита Путина 1 сентября на Вестерплатте было известно, что будет следующая встреча. Нам было важно, чтобы она состоялась в Катыни. Над этим нужно было поработать. Я согласился. Крупнейшим успехом посла является ситуация, когда отношения между странами становятся лучше, чем они были, когда он приехал. Я с радостью мог сказать, что так и вышло.
Мы с водителем поехали в аэропорт «Северный». Фамилия моего водителя Квасьневский, а секретарши – Чарторыская (древняя дворянская фамилия. – прим. перев.). Я шутил, что в посольстве я удерживаюсь на двух крыльях. (Улыбка)
Аэропорт находится на окраине Смоленска. Почти в 20 километрах от Катыни и только в нескольких километрах от отеля «Центральный», сейчас – «Смоленск», где мы всегда останавливаемся.
Согласно дипломатическому обычаю, нужно быть на месте как минимум за полчаса перед прилётом самолёта. Мы с водителем приехали примерно за 40 минут.
О намерениях президента я официально узнал в начале марта. Его канцелярия прислала мне письмо, что президент хочет принять участие в катынской церемонии. Дата приезда не была указана. Но предшествующее высказывание господина президента «Я надеюсь, что получу визу» предвещало очередные трения между двумя странами. И наши, внутрипольские. Я выслушивал это с неприятным осадком. Для меня две церемонии в Катыни двух высших представителей государства в такой короткий период были оскорблением для Республики Польши. Они показывали нашу неспособность вместе склониться над братской могилой. Как гражданин, я не хотел с этим мириться. Как чиновник – был обязан.
В аэропорту «Северный» в Смоленске двое въездных ворот. Мы въехали через главные. Справа, метрах в двухстах от взлётной полосы, было место для парковки автомашины. Я вышел. В аэропорту уже были работники нашего посольства, губернатор и несколько высших представителей смоленской областной администрации. Всего 30-40 человек.
Что изменилось с 7 апреля?
- Я не заметил. Но не думаю, что к прилёту Путина аэропорт не был хорошо подготовлен. Может, было установлено дополнительное оборудование. Может, что-то было добавлено, дополнено или заменено, что гарантировало бы полную безопасность взлёта и посадки. В России там, где должен быть премьер или президент, всегда должно быть безопасно. Естественно, в других ситуациях может быть по-всякому. Аэропорт «Северный» - я подыскиваю более элегантное слово, но не нахожу его – запущенный. И о том, какой он есть, все мы давно знали.
Я покажу Вам, в календаре у меня записано - 10 марта в 15-00, директор Нечаев из российского МИД.
Я был у него с господином Цыгановским, шефом протокола нашего посольства. Нечаев горячо отговаривал нас от использования аэропорта в Смоленске. Он говорил, что порт закрыт уже несколько месяцев, что расформирован полк, который им занимался. Он предлагал нам выбрать другие аэропорты. О таких беседах обычно пишутся депеши с грифом «секретно». Но я счёл, что Нечаев поднял вопрос, о котором должен знать более широкий круг лиц. Я послал в Варшаву подробную записку на полторы страницы..
Кому?
- Получателем писем от посла всегда является МИД. Канцелярия президента получила его, вероятно, для сведения.
Ко мне подошла госпожа вице-губернатор Смоленска. Это видная, красивая блондинка лет сорока. Она приветствовала меня словами: «Хорошая погода».
Я подумал, что не очень. «Хорошая», - согласился я с ней из вежливости.
После обмена любезностями мы разбились на две отдельных группы. Поляки шли с поляками, россияне – с россиянами. Так всегда бывает.
Спустя 15, может, 20 минут ожидания появился туман. Клубы тумана шли с левой стороны вправо. Их было всё больше, туман сгущался в молниеносном темпе. Приехал Титов, замминистра иностранных дел России, я поздоровался с ним и вернулся к своей мини-группе.
Присутствие Владимира Титова нам удалось обеспечить почти в последний момент.
У меня в календаре: 26 марта – поездка к министру из администрации премьера России Ушакову. Мы хотели «подбросить» ему оба визита в Катыни – премьера Туска и президента Качиньского – в одном пакете, и обговаривать их совместно. Он не согласился. Сказал, что они – от премьера Путина, и занимаются только встречей премьеров. Неизвестно было, к кому обращаться. Главе государства, приезжающему в данную страну, должно быть гарантировано присутствие кого-либо с соответствующего уровня государственной администрации. Такой гарантии у нас не было. Но дипломатическая вежливость по отношению к главе другого государства, однако, победила, и меня в какой-то момент официально заверили, что так же, как при визите Туска, будет присутствовать Титов. Давая таким образом понять, что российский МИД по протоколу будет одинаково рассматривать оба визита – премьера 7 апреля и президента – 10 апреля.
Вы знаете, в чём заключалась проблема?
Что никто не пригласил президента Качиньского в Россию, да?
- Что невозможно было найти формальный ключ для характера визита президента.
В 2007 Вы нашли.
- Я помню.
А что Вы помните?
- А что Вы знаете?
Что президент Качиньский вдруг решил посетить кладбище в Катыни. Он назвал дату 17 сентября, потому что на 7 сентября ПиС назначил самороспуск Сейма, что влекло за собой объявление очередных выборов. А значит, 30 августа канцелярия президента попросила Вас помочь в подготовке визита и сообщила, что днём раньше пригласила в Катынь президента России, тогда Владимира Путина.
- Как пригласила, напомните мне.
Мацей Лопиньский, шеф кабинета президента, 29 августа передал это приглашение послу России в Польше Владимиру Гринину.
- Ну-ну. И что было дальше?
Путин не приехал.
(Улыбка)
А первая дама прилетела без визы.
(Улыбка)
И что вы придумали?
- Паломничество. Что президент Качиньский приедет в Россию как паломник. А паломничество – хоть такое понятие не функционирует в дипломатических отношениях – может осуществляться в любое время года, и в нём могут участвовать очень разные люди.
А, значит, визиты Качиньского 17 сентября 2007 и 10 апреля 2010 года были неофициальными. И организованы они были с исключением применяемых в таких случаях протокольных норм.
Итак, я стоял в аэропорту «Северный» и, как обычно, присматривался к людям. Я социолог, и мне интересно их поведение. Минуло запланированное время прилёта. Всегда нужно считаться с каким-то опозданием, но оно всё увеличивалось. Я начал нервничать. Считается каждая минута, потому что она записана в протоколе. Тумана стало очень много. Он был страшный. Мы были всё больше дезориентированы.
Вдруг я заметил, что российская группа пришла в движение. Есть такое выражение – «присесть от впечатления». Они присели массово, будто бы на них упало что-то тяжёлое. Одновременно я увидел выскакивающую с левой стороны пожарную машину. Раньше я её не видел, наверно, она стояла где-то на тылах. Она проехала мимо нас на большой скорости, поперёк взлётно-посадочной полосы. В долю секунды я сопоставил эти два факта и крикнул своему водителю: «Что-то случилось!» Ведь ни одно транспортное средство не будет ехать по полосе, если на ней сейчас будет садиться самолёт. Мы вскочили в машину. И за ним!
Пан Квасьневский – отличный водитель. Ездит, как гонщик.
Он работает в Бюро охраны правительства.
- Позже, в дискуссиях, были ли в аэропорту люди из БОП или не были – он представляет собой ключевое доказательство, что были.
Двое.
- Вторым был Артур Гейсель. Он стоял дальше, возле автомашин, не с нами.
Сквозь туман я видел перед собой зад пожарной машины, а по бокам – поле битвы в чисто советском стиле – развалины гаражей, складов и остовы ржавеющих самолётов.
Пожарная машина остановилась, дала задний ход и повернула вправо. Видимо, получили от кого-то сигнал, что едут не туда. Через несколько сот метров снова остановились. Мы вышли из машины. Мы находились за пределами аэропорта. Рядом был ров, перед нами луг. Я увидел вице-губернатора, он стоял за рвом и кричал нам, что это тут, и что место болотистое.
Но человек – как Вы знаете – в такие моменты не думает об осторожности. Естественным рефлексом было бежать дальше, чтобы кому-то помочь, кого-то спасти. Ведь самолёт, как в фильмах экшн, видимо, зарылся в землю или наткнулся на какую-то стену. И мы нужны заключённым в нём людям.
Мы побежали. Под ногами чувствовалась мягкая почва, но по ней можно было передвигаться.
Через 100, а может, 150 метров мы увидели четыре груды металлического лома. От них шёл дым. Дым поднимался над полями и шёл вверх. Как во время уборки картофеля. На поле, осенью.
У меня часто спрашивают, что произвело на меня наибольшее впечатление. Это!
Я летал на этом самолёте, каждый полёт был приключением. Сам раза два был в ситуации, когда человек благодарил Бога, что, наконец, оказался на земле.
Он стоял у меня перед глазами, я много раз участвовал в его встречах и проводах. Огромное туловище с высоким трапом. А эти фрагменты, которые я увидел, по полтора метра высотой, отнимали у меня надежду, что я могу кому-то помочь.
Я чувствовал себя как в Бухаресте после большого землетрясения 4 марта 1977 года. Мы выходили из посольства на главную улицу Булевардул Магеру. От зданий, вчера 8-10-этажных, остались карикатурно уменьшенные груды развалин. И не было никаких расщелин, через которые можно было бы войти и вытащить кого-нибудь изнутри. Я думал только о том, что из сотен людей, которые там жили, выжить не мог никто.
Мой водитель начал материться. И как! Хоть он чрезвычайно выдержанный человек и всегда владеет собой. Что это с самого начала не имело смысла, и этим должно было закончиться.
Ну, знаете... Он тоже видел, что весь этот визит происходит на грани реальности.
В моём календаре записана такая последовательность:
6 апреля – выезд в Смоленск 14.30.
7 апреля – Катынь, встреча премьеров РП и РФ, возвращение в Москву.
8 апреля – научная конференция о Второй мировой войне. На ней был и мой друг Адам Даниэль Ротфельд.
Поэтому он жив.
- 9 апреля, то есть в пятницу, в 12-00, я вручал награды российскому Мемориалу, в том числе Гурьянову. Награды установил господин Кохановский (уполномоченный по гражданским правам, ПиС. – прим. перев.), но он не мог приехать в Москву.
А если бы приехал...?
- Да. После этой церемонии я снова поехал на машине в Смоленск. А вечером у нас было совещание с работниками посольства. Подготовка каждого визита – это очень много технических деталей. Мы встретились в кафе «Французское» возле гостиницы. Нас было человек десять.
В этот день я должен был сопровождать президента на катынском кладбище, а в 16-00 проводить его на встречу с польской диаспорой. Я сделал конспект, довольно примитивный. Типа – фамилии лиц, которые должны быть названы, чтобы не ошибиться и никого не пропустить. Вложил в папку. Она до сих пор у меня, я сохранил её на память.
Ноги отказались меня слушаться. Тряслись так, что я не мог стоять. Я старался с этим справиться.
Мой водитель звонил. Почему Вы думаете, что Мацеревичу?
Потому что Мацеревич, который был на Катынском кладбище, узнал о катастрофе от человека из БОП, из аэропорта.
- Я сомневаюсь, чтобы у Квасьневского был его телефон. Может, от Гейселя. Гейсель был где-то неподалёку. Я слышал его голос.
Мой водитель сзывал БОП-овцев с Катынского кладбища. Он кричал в телефон, чтобы они немедленно приезжали, что они нужны. «Не там ваше место,- кричал он, - а тут». Я справился с ногами.
Нужно было кому-то сообщить. Рефлекторно я позвонил своей семье. Трубку взяла сестра. Я сказал две фразы. Что случилась катастрофа, и что то, что я вижу, ужасно. Услышал её крик. Затем я позвонил госпоже Чарторыской, моей секретарше в посольстве.
Не министру Сикорскому?
- У меня с собой не было его прямого телефона, я взял не тот мобильник. Спустя минуту ответил Оперативный центр правительства и соединил меня с Сикорским.
Было 8.55.
- Министр уже знал.
Семь минут. От директора Ярослава Браткевича из департамента восточной политики, а тот – от своего начальника Дариуша Гурчиньского, который позвонил ему из аэропорта.
- Я сообщил министру о том, что вижу. Это был короткий разговор.
За местом, где мы стояли, был пригорок, типа насыпи. Мы не видели, что за ним.
Я не видел и никакого фюзеляжа, и никаких перевернутых вверх шасси. С удивлением увидел их потом по телевидению.
Их заснял Дарек Лопач, оператор Виктора Батера. Он залез на крышу магазина поблизости.
- На насыпи появились солдаты. Очень быстро. И какой-то автомобиль с группкой людей. Там, кажется, создался центр управления. Солдаты разбежались и начали нас оттеснять.
Вежливо?
- Вежливо, но решительно.
Объясняя что-либо?
- Их задачей не были разъяснения. Они очень чётко оцепили всю территорию. Одни гасили дымящиеся фрагменты, другие устраняли всех гражданских лиц.
Вы знаете, что было в этой катастрофе самое главное? Что россияне, не помню точно, когда, но спрашивали нас, хотим ли мы воспользоваться помощью их штурманов, которые помогут нашим пилотам при посадке. Этот вопрос мы переслали в Варшаву. Нам ответили, что нет.
Дело было в деньгах?
- Я не знаю.
Привлечение российских штурманов в 2007 году обошлось канцелярии президента примерно в 15 тысяч злотых.
- Бог нас берёг. Потому что этот отказ у нас, к счастью, есть.
Я увидел людей из МЧС, российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Они взяли на себя руководство всей операцией. Для меня было очевидно, что следствие будет вести страна, на территории которой произошла катастрофа.
Я потерял из виду вице-губернатора. Рядом я слышал голос – не знаю, Квасьневского или Гейселя, а может, кого-то ещё, кто просил пустить их дальше, и слышал фразу: там наш президент, там наш президент.
Был ли у него специальный чип?
- Первый раз слышу. В случае Качиньского я этого не исключаю. Это дело связано с представлением данного лица о своей безопасности. Некоторым нужно большей, другим меньшей.
Я не знаю, сколько мы ещё стояли на этом поле. Может быть, в общей сложности полчаса. Водитель сказал мне, что звонят из Катыни. Они хотят начать богослужение, и спрашивают, приеду ли я. Меня охватила мысль, что важнее всего сейчас люди, собравшиеся на кладбище. Они ждут нас, и моё место среди них.
Мы выехали на шоссе.
Оно уже было оцеплено?
- Кажется, нет. Но не скрою – я был в полубессознательном состоянии.
Один из выводов, которые я потом старался передать нашей стороне, был такой, что мы должны в рамках нашего сотрудничества с россиянами предпринять, а может быть, обогатить взаимодействие с их министерством по чрезвычайным ситуациям. Это военизированная, прекрасно организованная структура, с гигантским опытом. На территории такой большой страны ведь всё время что-то происходит. Сегодня люди борются с песчаной бурей, а завтра – с наводнением, пожаром или взрывом газа. Стоило бы воспользоваться их опытом.
Мы приехали в Катынь. Я вышел из машины, и первым, кто ко мне подошёл, был Антоний Мацеревич. Он попросил номер телефона. Я уже не помню, чей. Кажется, кого-то из посольства, потому что в моём мобильнике он был, а там, в основном, номера людей из посольства. Я дал. Подошёл министр Сасин из канцелярии президента. Раньше я его не знал. Я старался выразить ему сердечность. Потеря шефа, с которым у тебя были товарищеские отношения, казалась мне страшной тяжестью.
Он должен был быть в этом самолёте.
- Этого он мне не сказал.
Он уступил своё место сотруднице.
- С господином Сасиным мы пошли по направлению к ожидающим людям. Я увидел ряды пустых кресел. С цветами, с флагами, с висящими на поручнях зонтами. Тогда до меня дошло, что действительно погибли все. И никакого чуда не будет. Ведь человек верит в чудеса. Верит, что он внезапно узнает о чём-то хорошем, из-за чего страшные события станут менее страшными.
Я сказал несколько фраз. И быстро дал слово Сасину. Я счёл, что этот он должен говорить. Что в этот момент близкий сотрудник президента более важен, чем я.
Люди о чём-нибудь спрашивали?
- Нет.
В Бухаресте тоже не спрашивали. Они шли по середине улицы, потому что по бокам были развалины. Шли сотни, тысячи людей. В полном молчании. Я не слышал ни одного слова. Будто бы это был фильм с выключенным звуком. На кладбище в Катыни тоже была тишина. Никаких вскриков, громкого плача – ничего. Все стояли окаменевшие.
Началась месса.
Для верующего человека, когда его встречает минута высочайшей радости или наибольшей боли – а боли в человеческой жизни больше, чем радости, богослужение важно, оно самое важное. Человек хочет обратиться к Богу, непосредственно соединиться с ним и вернуться – к ценностям.
На кладбище были работники посольства. Я видел наших консулов – Лонгину Путку и Роберта Амброзяка.
Выходя с кладбища, я встретил Тадеуша Штахельского из дипломатического протокола МИД. Он был потрясён. Он был рядом со смертью, должен был лететь в этом самолёте. 7 апреля он приехал с премьером, должен был вернуться в Варшаву и прилететь второй раз. Но остался в Смоленске из-за каких-то организационных вопросов. "Но Вы остались в живых", - пытался я его утешить.
Вы тоже.
- Но в моей голове не возникла картина, что я мог оказаться в этом самолёте.
Вы были в списке.
- Но как член официальной делегации. И возле моей фамилии стояла звёздочка, это на языке МИДовской бюрократии означает, что человек находится на месте. Журналисты или не заметили её, или не знали этого кода, но раз именно они тогда решали вопросы жизни и смерти (улыбка), то включили меня в список жертв катастрофы
Адам Даниэль Ротфельд попрощался с Вами по телевидению.
- И Александр Квасьневский. Замечательными словами. Меня это очень растрогало. Я работал с ним только девять месяцев. Как руководитель Бюро национальной безопасности, после того, как Марек Сивец ушёл в Европарламент. Он меня не знал, но принял, поверил, хоть – прямо говоря – я не был левым, и он об этом знал. Но я доволен. Когда он уходил, я выразил ему свою лояльность.
После выбора Леха Качиньского президентом, госпожа Якубяк и господин Коваль пригласили меня на беседу. Они сказали, что у них есть для меня предложение: ещё год я могу оставаться на должности шефа БНБ. Я был рад. Это подтверждало принцип, которого я стараюсь придерживаться всю жизнь – что я государственник. Я очень хотел остаться. БНБ – это интересное место работы. Но я знал, что 22 декабря все министры канцелярии президента Квасьневского подадут в отставку, новый президент примет её и попрощается с персоналом. Я был бы единственным министром, который бы этого не сделал. Я счёл, что такого номера я выкинуть не могу. Не могу за счёт нелояльности – а это была бы страшная нелояльность по отношению к Квасьневскому – добывать аплодисменты новой команды. Госпожу Якубяк и Павла Коваля я поблагодарил и подал в отставку. Я подумал, что если новый президент действительно захочет принять меня на работу, то пожалуйста, он может мне предложить это, когда примет присягу.
Но не предложил?
- Нет.
Вы его знали?
- Познакомился. Он был очень милым человеком. И наверняка горячим патриотом. Но любить свой народ – этого слишком мало. Нужно ещё хотеть увидеть, каков он есть, как меняется. Какие у него ожидания. И... принимать решения. А с этим была проблема. Это, по моему мнению, было связано с зависимостью.
От брата?
- Он выполнил задание, говоря их языком. Но его избрали. История, к сожалению, поручила ему эту роль.
Я приходил к нему в условленное время, с делами, которые нужно было решить, Президент говорил: «Я люблю ходить». И он ходил по кабинету и говорил. Даже очень интересно. Я пытался подбросить ему какой-нибудь вопрос, касающихся наших билатеральных отношений с Россией, а он - что сейчас это неважно, что поговорим об этом через 12 лет. И я шёл к Мариушу Гандзлику, я его очень любил, а через 15 минут приходил президент и снова что-то рассказывал. Он, очень кратко говоря, никуда не торопился. Поэтому Россия видела партнёра для переговоров в Платформе и в премьере Туске. А не в ПиС и в президенте. ПиС и президент Качиньский, в глазах россиян, не давали России шансов на улучшение отношений. Они не выложили на стол ничего, что могло бы рассматриваться Россией в качестве серьёзного предложения. В Европе знают, что Россия – это очень трудный партнёр, но сегодня, наконец, прагматичный.
Господин Сасин решил сразу же возвращаться в Варшаву. Я просил его остаться. Ведь многое – объяснял я, – и, наверно, всё больше будет происходить и в Смоленске, и в Москве, и он как единственный представитель канцелярии президента, должен в этом участвовать. У него было другое мнение. Он улетел на Як с журналистами сразу же, ещё в субботу. А потом я увидел в прессе неприятную информацию обо мне, что Бар отговаривал Сасина от возвращения в Варшаву. По умолчанию – что Бар был очень заинтересован в том, чтобы Сасин не вернулся в канцелярию в то время, когда её будет занимать... даже не знаю точно, кто.
Вражьи силы?
- Спикер Коморовский, исполняющий обязанности президента! Ничего не понимаю. Ведь государство должно функционировать. Несмотря на страшнейшую катастрофу. А я даже не знал, чем Сасин занимается в канцелярии, мне и в голову не пришло, что, задерживая его в Смоленске, я лишаю его шансов на принятие канцелярии. Меня это сильно задело. Это было не только полностью лживо, но и абсолютно глупо, просто абсурдно.
Я вернулся в гостиницу. И снова должен был ехать в аэропорт. Я получил информацию, что приезжает премьер Туск. Было уже темно. В аэропорту стояли освещённые палатки. Мне сказали, что уже прилетел Путин. Мы ждали нашего премьера. Он ехал из Витебска. Я разговаривал с россиянами. У них в голове не укладывалось, что могла произойти такая трагедия. В мистических категориях – это, видимо, цена, которую нужно заплатить за то, чтобы расширилось пространство правды. Я понимаю, что если в стране есть место, которое болит, то не любят кого-то, кто приходит и копается в этой ране. Но мы как жертвы имеем право в ней копаться, потому что это наша рана. Это благодаря нашей настойчивости, я называю её катыньской, были возведены такие прекрасные объекты как Медное и Катынь, чего добился неоценимый Анджей Пржевозник. Россияне должны были с ними примириться. И примирились. Я убеждён, что когда мы начнём спокойно разговаривать друг с другом, они поблагодарят нас, что мы помогли им, при помощи своих жертв, воскресить память и об их жертвах. Потому что на их земле десятки Катыней. А когда они вспомнят про них, мы должны будем подвинуться, чтобы освободить для них место в нашей польской памяти. Такова логика примирения.
Позвонил Павел Коваль, мы хорошо знакомы. Сказал, что они тоже прилетели с Ярославом Качиньским в Витебск, и сейчас едут в автобусе, они на территории России, и он не знает, почему россияне задерживают их приезд в Смоленск. Я хотел ему помочь, мы побежали к россиянам, обращались к шефу российского протокола, но они от нас отделывались. А Коваль звонил беспрерывно. Что из задерживают, устраивают им какие-то проверки.
Приехал Туск. Видно было, что он потрясён. Он пошёл с Путиным к остову самолёта. Я был при этой сцене.
Объятия?
- Это страшная подлость – чтобы в объятии Путина усматривать что-то иное, чем выражение сочувствия. Жест Путина был абсолютно уместен, это был человеческий порыв. Туск, когда подходил к самолёту, еле держался на ногах. Он был совершенно убит.
Снова позвонил Коваль, что они уже у ворот аэропорта.
А сейчас я скажу вам как человек, который знает Россию. Если российская сторона запланировала, что на место катастрофы сначала должен приехать Туск, то так и должно было быть. Россияне, когда планируется событие с участием их высших представителей, удаляют всех, кто мог бы помешать им в реализации этих планов, удаляют или попросту выгоняют. Молниеносно и иногда жёстко. Сейчас же уезжайте! Вам тут нельзя. Невзирая на страну, которую данный гость представляет и на причины, по которым он тут находится.
Вмешательство премьера Туска бы не помогло?
- Нет. Я отвечаю однозначно. По тому графику, который запланировали хозяева, председатель Качиньский должен был приехать позже, а премьер Туск раньше. Для меня это было очевидно.
На территорию аэропорта въехал автобус с господином Качиньским. Я подошёл. Я был возле него, когда он шёл к телу брата. Я считал, что это я должен его сопровождать. Я держал его под руку. За несколько метров перед местом, где лежали тела, я остановился. Подумал, что мне не следует идти с ним до конца, что это слишком интимный момент. Последних несколько шагов он сделал сам.
Там лежали три тела.
- Я их не видел. Было темно. Он долго стоял возле брата. Возле него крутились какие-то люди.
Он идентифицировал брата.
- Я снова к нему подошёл. Проводил в автобус. Хотел выразить ему своё сочувствие. Начал говорить о смерти моего отца. Он ответил мне: «Но вы не потеряли брата». Он был прав.
Их автобус стоял примерно в 150 метрах от палатки, в которой происходили беседы Туска с Путиным.
Кто-то передал мне просьбу нашего премьера, чтобы я пригласил Качиньского в палатку. Я вошёл в автобус. Качиньский сидел в передней части, слева, вжавшийся в кресло. Я сказал ему о приглашении. В очень вежливой форме. Что они его ждут, что это важно, чтобы он с ними поговорил. Он отказался.
Как?
- Что нет. Это было только "нет".
Возле автобуса стояли люди Качиньского. Я пытался убедить их, чтобы они убедили председателя. Они отказались. Они очень решительно отказались.
Что, мол, это заговор? Покушение?
- Я Вам что-то скажу. Я принадлежал к тем наивным полякам, которые вначале верили в ГП-ПИС. И поверьте мне, что во время правления ПиС мы прикоснулись к чему-то очень опасному. Я не хочу формулировать более резко.
Я ещё раз пошёл к Качиньскому. Туск был очень заинтересован в том, чтобы у россиян не создалось впечатление, что существуют две Польши. Я тоже был в этом заинтересован. Для меня то, что мы перенесли свой раскол в другую страну, и что он должен был проявиться в таком специфическом месте как Катынь, было невыносимо.
«Нет», - ответил Качиньский. Они отъехали.
В разговорах Туска с Путиным я не участвовал. Даже не знаю, была одна беседа или две. Они проходили с глазу на глаз.
То есть сколько их там было?
- Без посла (улыбка). Это нехороший обычай, который привился несколько лет тому назад. Я работал в Москве советником по политическим вопросам. Приехал президент Валенса, и наш посол Станислав Циосек не был допущен к переговорам Валенсы и Ельцина в Кремле. Он был страшно возмущён. Да как! Он кричал, что он посол и имеет право. Я подозреваю, что то, что его тогда не допустили к переговорам, выражало намерение хозяев. Но позже, однако, это было связано с недоверчивостью правящих команд, которые менялись, как перчатки. Я испытал это на своей шкуре.
Один из польских премьеров, не зная, что я стою поблизости, спросил свого сотрудника: «А посол-то наш?» Мне будто бы дали пощёчину.
А каков был ответ?
- Ответа не было, потому что тот, кого спросили, кажется, сориентировался, что я всё слышу. Но если когда-либо рождается мышление такого рода, то нет ничего удивительного, что утвердилась формула, что некоторые переговоры ведутся без присутствия посла.
Туск уехал. Качиньский хотел забрать тело брата. С Павлом Ковалем мы пошли к Путину. Он ответил, что это невозможно, Потому что главе государства полагаются почести, и он не представляет себе, что польский президент может покинуть территорию Россию без них.
На следующий день, в воскресенье, состоялась церемония прощания.
Прилетел премьер Путин, а не президент Медведев.
Я не воспринял это как что-то чрезвычайное. Он прилетел, потому что всерьёз занялся примирением с Польшей. И он, по-моему, стал архитектором нового этапа в отношениях с Польшей.
Я шёл с ним за гробом. За нами маршировали солдаты. Во время очень медленного марша я кратко поблагодарил его за прекрасную организацию церемонии. Вместе мы почтили светлую память президента Республики Польши.
Я сознавал, что участвую в историческом событии, совершенно уникальном, заряженном символикой.
Обычно на официальных церемониях в России у меня было чувство, что они сконструированы так, чтобы любой чувствовал себя меньшим перед лицом России. А это был момент, когда у меня не только не было такого чувства, но мне казалось, что мы как государство стали важней.
Это единственный момент?
- Единственный, потому что я – реалист и, хоть это мне совсем не нравится, я знаю, кто меньший, а кто больший.
Но в тот момент я не был только чиновником, представляющим государство и отдающим от имени своей страны почести президенту. Мне казалось, что я, вместе с тем, кого мы провожали - это Польша. Это было невероятное чувство. Его невозможно передать.
Я вернулся в Москву. Посольство, которое в обычные дни огорожено колючей проволокой, было окружено цветами. Их приносили простые россияне, нужно об этом помнить. Я принимал соболезнования. Прибыл президент Медведев. Он дал понять, что будет на похоронах в Кракове. В книге для соболезнований делали записи все, включая американского посла, который обычно не посещает никаких посольств.
Несколько очень высоких российских чиновников, вписав соболезнования, отозвали меня в сторону и горячо убеждали, что реакция россиян аутентична и спонтанна, не организована ими. Если бы не обстоятельства, я бы слегка развеселился. Я помню давние демонстрации, которые устраивались возле польского посольства, когда людей привозили на автобусах и расставляли их с транспарантами, чтобы они протестовали против вступления Польши в НАТО.
Я сопровождал тело первой дамы из морга в аэропорт. Это была замечательная женщина, я считал себя её поклонником. Я присутствовал при закрытии гроба президента (в эмиграции. – прим. перев.) Качоровского. Он был скромным, умным человеком. Я прощался с последними гробами, которые летели из Москвы 23 апреля. Вошёл в самолёт. Огромное пространство внутри было устлано флагами. Каждый гроб был накрыт бело-красным флагом. Словно бы кто-то разложил бело-красную скатерть на рождественском столе. Я подумал о Монте-Кассино. Там было поле и красные маки. Я ходил между гробами, как по кладбищу. Увидел гроб Анджея Пржевозника, он был бесспорно самым близким мне человеком. Я простился с ним. И всё.












 Может зайдете на минутку туда и выскажете, чего думаете за такую идею? (там в общем речь о попытке основать царство Божие
Может зайдете на минутку туда и выскажете, чего думаете за такую идею? (там в общем речь о попытке основать царство Божие  Ну и все остальные также высказывайтеся... (это всё в салонных беседах на последних страницах...
Ну и все остальные также высказывайтеся... (это всё в салонных беседах на последних страницах...


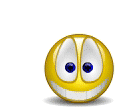










 , и будьте счастливы, как Ратмир. Если это хоть капельку возможно.
, и будьте счастливы, как Ратмир. Если это хоть капельку возможно. ) и идея еще в том, чтобы сначала создать некий угол полный благостности и гармониии, а там глядишь и поляки в нем заведутся (поскольку предполагается двуязычие).
) и идея еще в том, чтобы сначала создать некий угол полный благостности и гармониии, а там глядишь и поляки в нем заведутся (поскольку предполагается двуязычие).